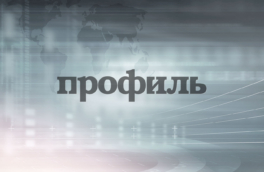— Хотела бы начать со спектакля «Времена года» на вашу музыку. Вы принимали участие в его создании? Как вы вообще работаете с режиссерами и хореографами, использующими вашу музыку?
— Мы просто несколько раз встречались с балетмейстерами, обсуждали, как и что. Естественно, я не вмешивался в то, что они там делали, а объяснял некоторые структурные моменты. Со времени работы с Анатолием Васильевым (театральный режиссер. — «Профиль») у меня сложился такой метод работы с постановщиками, когда мы не обременяем друг друга, но обговариваем какие-то важные вещи. Режиссер или хореограф может и не реагировать на них, но должен знать, что они есть.
— Как музыка меняется в контексте танца или спектакля? Какие новые смыслы и оттенки в ней появляются?
— Конечно, каждый привносит какие-то новые смыслы, это неизбежно, потому что добавляется визуальный элемент. «Чистая» музыка дает свободу фантазирования, спектакль же предлагает определенные образы, направляет восприятие и воображение в заданное русло, тем самым в какой-то степени ограничивая эту свободу.

— А в музыке вообще есть визуальное измерение? Или возникающие визуальные образы — это уже интерпретация хореографа или режиссера?
— Конечно, всегда есть какой-то пучок возможностей. А постановка — выбор из этого пучка возможностей.
— Расскажите о самом цикле «Времена года» — как вы его задумывали и как понимаете.
— Имеются в виду не просто времена года, а эпохи композиторов — весна, лето, осень и зима композиторской музыки, которые воплощают собой Вивальди, Бах, Мендельсон и Пярт. Почему именно они? Разумеется, композиторская музыка началась гораздо раньше, я имею в виду публичную музыку, звучащую в симфонических оркестрах. В этом смысле Вивальди — первый «шлягерный» композитор, а его «Времена года» — так вообще шлягер номер один. Поэтому Вивальди — это весна. Лето — Бах, композитор всех времен и народов, выше которого, как считают многие, никого нет. Осень — Мендельсон, открывший Баха, с его именем связано появление понятия «старинная музыка». И наконец Пярт — это зима, выстывание, кристаллизация музыки предшествующих эпох. В каждой из четырех частей цикла звучат фрагменты музыки этих композиторов: «Весны» Вивальди, фа-мажорной прелюдии Баха, «Осеннего бала эльфов» Мендельсона и канона Пярта.
— Музыку в спектакле исполняет ансамбль Opus Posth, который не просто аккомпанирует, но является самостоятельным персонажем наподобие греческого хора. Вы как-то сказали, что Opus Posth — это ваши «домашние тапочки», что он делает для вас то, что никто другой сделать не может. Что именно?
— Сегодня у каждого композитора, который достигает каких-то результатов, так или иначе должен быть свой ансамбль. У Филипа Гласса, у Стива Райха свои ансамбли, у Арво Пярта их несколько. Мне повезло, у меня тоже есть свой ансамбль. Но тут можно и наоборот сказать — что я для них домашний композитор, все основные вещи пишу для них.
— Почему? Это люди, которые понимают музыку так же, как вы?
— Ну конечно, мы не просто сотрудничаем с Татьяной Гринденко (художественный руководитель Opus Posth. — «Профиль»), это такой идейный монолит. Это раньше, в XIX — начале XX века, можно было просто написать партитуру, которая потом заживет своей жизнью. Сейчас это практически невозможно, музыка стала такой специфичной, что требует постоянного авторского присутствия. Если вы видели когда-нибудь партитуры Сильвестрова — они все испещрены агогическими знаками, и эта агогика (небольшие отклонения от темпа, не обозначаемые в нотах и обусловливающие выразительность музыкального исполнения. — «Профиль») в какой-то степени важнее нот. То же самое и у меня — невозможно доверить исполнение собственной музыки каким-то сторонним ансамблям. У меня это бывает очень редко, как, например, в случае с Кронос-квартетом или ансамблем «Сирин», исполнявшим «Плач пророка Иеремии». Было еще продолжительное сотрудничество с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского, для которых я написал около десяти вещей. Но все это эпизоды, а Opus Posth — это на всю жизнь.

— Какими качествами должны обладать музыканты для исполнения вашей музыки?
— Это люди определенной выучки, воспитанные в двух цивилизационных парадигмах — старой и новой музыки. И здесь очень мешает опыт музыки XIX века, это несовместимые вещи, которых в репертуаре Opus Posth почти нет. Можно, пожалуй, сказать, что этот ансамбль — некая музыкальная секта. Чтобы попасть в него, надо пройти определенную ломку.
— Что, на ваш взгляд, представляет современная российская академическая музыка?
— В России в этом плане вообще черная дыра, это полная катастрофа, тут ничего нет.
— Почему?
— Композитор Владимир Тарнапольский провел интересную работу. Он подсчитал, что в Москве и Московской области работает 26 симфонических оркестров, которые в общей сложности играют 13 репертуарных вещей. Это, знаете, как в анекдоте — Бетховен написал три симфонии: третью, пятую и девятую. У нас практически нет ни барочной, ни современной музыки. Вот, казалось бы, Большой театр — средоточие культуры, а в его репертуаре нет ни одной оперы Вагнера и Моцарта. А в Сиэтле — надо сказать, далеко не в первом городе — каждый год полностью идет «Кольцо Нибелунгов». Если же говорить о современной композиторской музыке, то нет материальной базы. За счет чего композиторы живут на Западе? Издательств, оплачивающих его работу, конкурсов, фондов. У нас нет ни одного, ни другого, ни третьего, так что просто не о чем говорить. Если в современном искусстве существует хоть какое-то подобие арт-рынка — проводятся биеннале, выставки, работают галереи, то в музыке ничего такого нет и в помине.
— Каким вам видится будущее музыки?
— Будущее мне никак не видится. Чего думать о будущем, когда нет настоящего? Не знаю. Самое нелепое, что может быть, —это строить какие-то прогнозы. Тем более смешно думать о будущем музыки, когда вообще-то не стоит говорить о будущем человека и мира, в котором мы живем, потому что он не имеет права на существование. И что самое интересное — перестанет существовать.
— Почему у нашего мира нет будущего?
— Человек сейчас подобен царю Мидасу, который испросил у богов дар превращать все в золото, и умер от голода: все, к чему человек ни прикасается, превращается в продукт потребления. Сама реальность превратилась в продукт потребления. А раз так — человек практически подписал себе смертный приговор. Неважно, отчего вспыхнет третья мировая война — на Украине что-то случится или метеорит упадет, — это все детали. Исчезновение человека в его современном виде — дело решенное, просто вопрос времени.

— То есть вы считаете, что нас ожидает какая-то катастрофа?
— Необязательно катастрофа, это может быть постепенная, но весьма заметная деградация. Ведь человек деградирует очень быстро.
— Вы имеете в виду культурную деградацию?
— Нет, в целом — антропологическую. А культура исчезает быстрее всего. Попробуйте сегодня просто отключить канализацию — что станет с человеком?
— Вы говорите, что современные изменения в человеческом обществе по масштабу сопоставимы с неолитической революцией. Что это значит?
— Цивилизационный кризис, который мы сейчас переживаем, по масштабу не имеет аналогов в обозримой истории человечества, и единственное, что с этим можно сравнить, — неолитическая революция. То есть временем, когда человек стал человеком, когда появились все роды деятельности, которыми он занимается, искусство, религия. В чем фундаментальность происходящего сейчас кризиса? Нет стимула для дальнейшего существования человека. Все то, что было заложено неолитической революцией, практически себя исчерпало, ресурсы израсходованы.
— Но, может, перешагнув через сегодняшний кризис, человечество начнет существование на каком-то новом уровне?
— Да, безусловно, только это будет уже не про нас. Антропологически это такая же граница, которая отделяет палеолит от неолита. Как мы не смогли бы найти общий язык с палеолитическими людьми, так и люди нового антропологического типа не смогут найти общий язык с нами. Мы, гомо сапиенс, — тупиковая ветвь эволюции, на нас поставлен крест.
— Есть ли, на ваш взгляд, рациональные критерии в искусстве: это талантливо, а это нет, это искусство, а это не искусство?
— Надо понимать, что мы подразумеваем под искусством. Искусство в том смысле, в котором мы о нем говорим, вообще возникло лет триста тому назад, с появлением публичных концертов, публичных библиотек, галерей и музеев. В Древнем Египте даже слова такого не было. Считать ли искусством роспись погребальных камней в Долине царей, которые никто не мог видеть? Когда мы говорим об искусстве, мы подразумеваем выставляемое напоказ произведение художника. Те же наскальные палеолитические росписи — ни в коем случае не искусство. Во-вторых, о каком искусстве мы говорим? Академическом, актуальном, традиционном, фольклорном, религиозном? Это все совершенно разные критерии. Школа Андрияки — это одно, а Бойс или Казаков — совсем другое. Нельзя говорить об искусстве вообще, надо говорить о каких-то номинациях внутри искусства. И определенные оценки — хорошо, плохо — работают в определенной номинации.

— Давайте тогда возьмем современное искусство в широком смысле: музыка, визуальные искусства, театр, кино и так далее. Перед нами некое произведение конкретного художника — каков критерий его принадлежности к искусству? Или это все субъективно?
— Нет, это как раз очень объективно. Просто опять-таки надо отдавать себе отчет, как себя позиционирует данный художник, к какой номинации он себя относит. Скажем, то, что делает Кулик, с академической точки зрения не имеет никакого отношения к искусству. Но с точки зрения Кулика школа Андрияки — не искусство, а, как говорил Пригов, народный промысел. Потеряв актуальность, оно тем не менее имеет своих поклонников и спрос, поэтому оно — народный промысел. Самое главное, чтобы сам художник понимал, что он делает: концептуалист ли он или традиционалист, или еще кто-то. К слову, и выставляться их произведения будут в разных местах: Кулик не пойдет в Шиловский музей, а Шилова не покажут где-нибудь в «Гараже».
— Если мы говорим об актуальном искусстве, в чем выражается его актуальность — в форме, языке, в связи с современностью и ее проблемами?
— Что в принципе отличает искусство прошлого от актуального искусства? Искусство прошлого текстоцентрично, и неважно, какой в его основе лежит текст: музыкальный, литературный или живописный. Раньше текст был единственным генератором смыслов. Во второй половине XX века произошел концептуальный поворот: на первый план вышел контекст. Поэтому сейчас не важен язык, являвшийся основным вопросом искусства в первой половине XX века, сегодня главное — ситуация, в которой живет произведение.