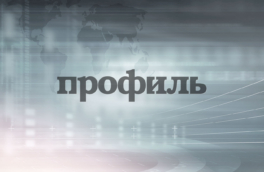Тогда эссе Энценсбергера мне очень даже понравилось. Он был одним из тех немногих, кто возвысил голос против мощного унисона критиков американского нападения на Ирак. Перед самым началом войны я побывала на севере Ирака, в Халабадже — том курдском городе, где в 1988 году Саддам применил химическое оружие против тысяч курдов. Детей, игравших на улице, женщин, направлявшихся на рынок — всех их постиг страшный конец. Я встречалась с теми, кто остался в живых, но чьи легкие пострадали от едкого газа — эти люди вот уже 15 лет умирали мучительной смертью. Халабаджа как ни один другой город символизирует преступления Саддама против собственных граждан. Я не поддерживала войну в Ираке, но в Халабадже не оставалось сомнений, что свержение тирана — это повод для радости.
Однако те, кто предостерегал и взывал к осторожности, все-таки оказались правы. Прогнозы, согласно которым в Ираке могли погибнуть до 200 000 человек — тогда Энценсбергеру это казалось абсурдным — за 11 лет, прошедших со дня свержения Саддама, если верить серьезным исследованиям, оказались превышены во много раз. Ирак и весь регион погрузились в хаос и анархию. А это подготовило почву для радикализации населения пропагандой «Исламского государства» (ИГ).
Свержение диктатора дает немало поводов для радости. Преступник на самом верху теряет власть; появляется шанс, что на смену диктатуре придет демократический порядок; наконец, мы просто верим, что хуже деспотии ничего быть не может. Но это заблуждение. Последние десять лет показали, что есть вещи, более страшные, чем диктатура, чем несвобода и угнетение — это гражданская война и хаос.
«Несостоявшиеся» государства, начиная с Пакистана и заканчивая Мали, демонстрируют, что альтернативой диктатуре необязательно является демократия, и что гораздо чаще на смену диктатуре приходит анархия. Глобальная политика рано или поздно будет определяться противостоянием не столько демократических и авторитарных стран, сколько государств функционирующих и государств, не справляющихся со своими задачами.
Господство — это порядок. Томас Гоббс, отец современной политологии, считал изначальной задачей государства принуждение индивидов, находящихся в «естественном состоянии» к законному порядку. Насилие со стороны государства ему представлялось оправданным при условии, что оно служит защите жизни и собственности всех граждан. Если государство не в состоянии гарантировать такой порядок, это может обернуться войной всех против всех. Именно этот социальный хаос, олицетворяемый библейским морским чудищем Левиафаном, призвано «укрощать» государство. Своего «Левиафана» Гоббс написал под впечатлением от английской гражданской войны.
Во время крестьянской войны в Германии (1524-1526) Мартин Лютер в своем опусе «Против разбойных и кровожадных шаек крестьян» тоже оправдывал жесткие действия князей. Бунтаря надо «уничтожать, как бешеную собаку», — писал Лютер. Хотя поначалу восстание крестьян, ссылавшихся на его идеи, казалось ему не чуждым справедливости. Но он испугался необузданного насилия и беззакония, которыми сопровождался крестьянский бунт.
Самый последний из длительных периодов беззакония имел место в Германии почти четыре века назад — во время Тридцатилетней войны (1618-1648). За долгие десятилетия мира и стабильности, прошедшие после окончания Второй Мировой, на Западе привыкли воспринимать постоянство политических реалий, как нечто само собой разумеющееся. Во время «холодной войны» угрозу для Западной Европы представляли не слабые государства, полевые командиры и террористические организации, а коммунизм и Советский Союз. Этот период воспринимался как противостояние противоположностей: западной демократии и социалистической диктатуры.
Мирные революции в Восточной Европе в 1990-е годы, сопровождавшиеся свержением социалистических диктатур, привело к установлению нового демократического порядка, а не к беззаконию. В результате возникла иллюзия, будто достаточно устранить препятствия, и демократия возникнет сама собой.
Но в России этого не произошло. Переход от советской системы к демократии не заладился. Сразу после отказа от социалистического строительства россияне могли участвовать в более-менее демократических выборах, была проведена приватизация. Но правовым государством Россия не стала. В стране воцарились произвол и коррупция, установилось право сильного, чеченцы начали войну за независимость от Москвы, над государством повисла угроза распада. В такой ситуации тогдашний российский президент Борис Ельцин сделал премьером Владимира Путина. Глава ФСБ показался ему единственной фигурой, способной предотвратить распад страны. Такая же задача стояла перед Путиным и на посту президента: он должен был восстановить нормальную работу государства, терпевшего бедствие. Проблемы усугублялись наследием гигантской, малонаселенной страны, править которой всегда было трудно. «Велика Россия: до Бога высоко, до царя далеко», — как говорится в пословице. Из исторической памяти русских неизгладимы ужасы Смутного времени — времени беспорядков и безвластия. Свинцовые годы брежневской эпохи многие, напротив, считают самым счастливым временем в новейшей российской истории.
Еще в 1990-е годы пример Югославии показал: легче свергнуть диктаторов, чем установить демократический порядок. Нескольких недель бомбежек хватило, чтобы режимы Милошевича, Хусейна, Каддафи или муллы Омара пошатнулись. Но даже в Европе на весьма компактной территории Боснии и Герцеговины или в совсем маленьком Косово понадобились долгие годы, чтобы там возникли хотя бы более-менее стабильные государства с более-менее демократическим устройством. Это было сопряжено с колоссальными трудозатратами и расходами. Высокий представитель в Боснии и администрация ООН в Косово де-факто годами выполняли функции госвласти.
Так что же, стабильность ценна сама по себе? Утвердительно отвечая на этот вопрос, можно прослыть циником, которому безразличны свобода и права человека. Но неудобная правда такова: выживать в условиях диктатуры зачастую легче, чем в условиях анархии. Если людям приходится делать выбор между функционирующей диктатурой и хаосом терпящего или потерпевшего фиаско государства, диктатура нередко представляется им наименьшим злом. К тому же более-менее безопасное существование, какой-то минимум справедливости и достоинства для большинства важнее индивидуальных свобод и демократии чистой воды.
Осуждать подобные взгляды как признак отсталости, устроившись в кресле перед телевизором в западной демократической стране, — пошло. Когда я спрашиваю своих иранских друзей, почему они не бунтуют против столь ненавистной им исламской системы, то слышу в ответ: они не хотят революции, поскольку считают, что после нее все станет только хуже. И они знают, о чем говорят. Последняя революция в Иране состоялась всего 35 лет назад.
Политическая нестабильность пробуждает тоску по порядку. Иногда — по порядку любой ценой. Поэтому она часто подготавливает почву для экстремизма. Так было в Германии в последние годы Веймарской республики. В России после революции и гражданской войны воцарился сталинизм. В Афганистане война между полевыми командирами после вывода советских войск привела к власти талибов. В Ираке и Сирии возникло «Исламское государство».
Именно поэтому дуга политической нестабильности, простирающаяся от Пакистана до Мали, вызывает такие опасения. Начиная с Ирака, Сирии и Йемена и заканчивая Ливией, центральные власти не контролируют обширные территории. Целые страны в любой момент могут стать неуправляемыми. Племена и кланы воюют друг с другом, полевые командиры захватывают контроль над территориями и снова теряют его.
Неудавшаяся демократизация в Ираке и провал «арабской весны» в Сирии подготовили почву для «Исламского государства». Ни у одной из этих стран реальной демократической перспективы сегодня нет. Лучшим выходом для Сирии — и это не цинизм! — представляется военный переворот против Асада. Он бы смел диктатора и вместе с тем сохранил бы последнюю в регионе силу, способную поддерживать порядок и имеющую, что противопоставить ИГ — сирийскую армию.
Конечно, такой аргумент, как стабильность, не слишком воодушевляет. Он попахивает «реальной политикой». То есть признанием собственной беспомощности, ограниченных возможностей Запада по экспорту своих ценностей и своей жизненной модели. После такого признания остается послевкусие предательства собственных идеалов. На Западе этим аргументом часто злоупотребляют для оправдания сделок с диктаторами. И, что еще хуже, деспоты оправдывают им свою политику угнетения. Однако все это не означает его ошибочности.
Количество несостоявшихся государств в мире неуклонно растет. Согласно антирейтингу американской общественной организации «Фонд за мир» количество государств, слабость которых оценивается как «весьма тревожная» или «крайне тревожная», с 2006 года выросло с 9 до 16. А вот распространение демократии и свободы за тот же период осталось практически неизменным. По статистике организации Freedom House число свободных государств после заметного прироста в начале 1990-х с 1998 года остается довольно-таки постоянным.
Необходимая предпосылка для демократии — наличие некоего минимального порядка в государстве. Сама она не всегда может его установить. Во всяком случае, в Ираке и Египте это пока что совершенно не удалось. В Афганистане, несмотря на поддержку со стороны Запада, власть избранного президента Хамида Карзая едва ли простирается за пределы Кабула. И теперь, когда международные силы содействия безопасности (ISAF) после 13 лет пребывания в стране, покинут ее, есть сомнения, что афганцы смогут сохранить зачатки правового государства.
Свободному государству, — писал эксперт по государственному праву Эрнст-Вольфганг Бёккенфёрде, — необходимы условия, гарантировать которые оно само не в состоянии. В отсутствие процесса культурного самообучения, который начался в Европе во времена межконфессиональных войн и привел к просвещению, разделению властей и демократизации, недостаточно просто свергнуть диктатора и провести выборы. Поэтому западным политикам впредь следовало бы больше значения придавать функционированию государства. И если кому-то не терпится избавиться от автократического режима, будь то в России, Китае или в Центральной Азии, пусть сначала подумает об альтернативе. И когда в следующий раз будет рассматриваться возможность интервенции, — военной, в виде санкций или поддержки оппозиционных сил, — Западу стоит задуматься, что последует за свержением диктатора. Именно так несколько недель назад в Вашингтоне Барак Обама оправдывал свою выжидательную позицию: «Когда я спрашиваю себя, нужно ли нам предпринимать военное вмешательство, я всегда ставлю себе вопрос: а мы знаем, что делать на следующий день?»
Сегодня Ханс Магнус Энценсбергер считает свержение Саддама и войну в Ираке подтверждением того, что иногда свое мнение нужно менять. В августе на литературном фестивале в Потсдаме он признал, что его первая оценка оказалась досадным просчетом.
Перевод: Владимир Широков